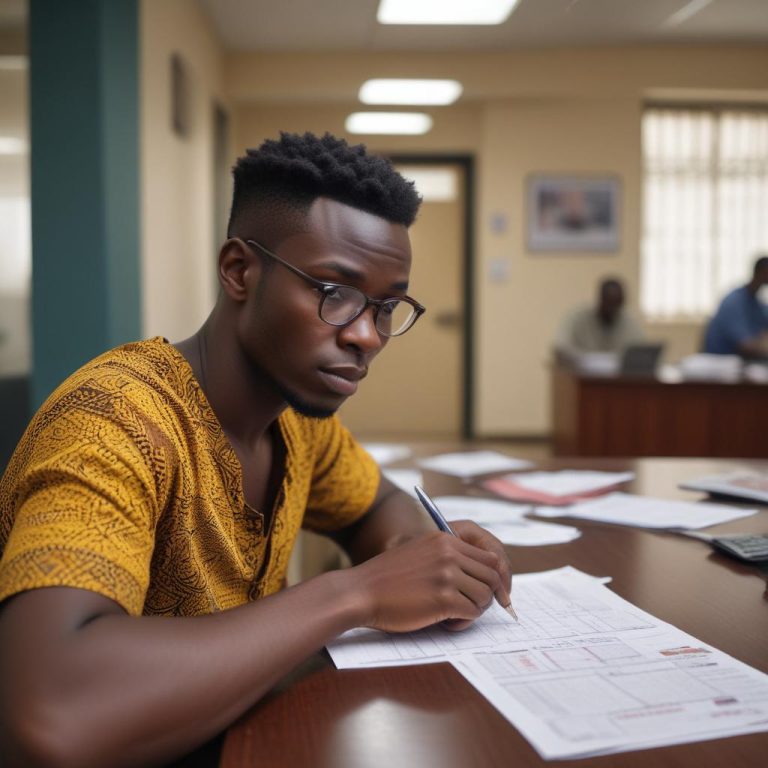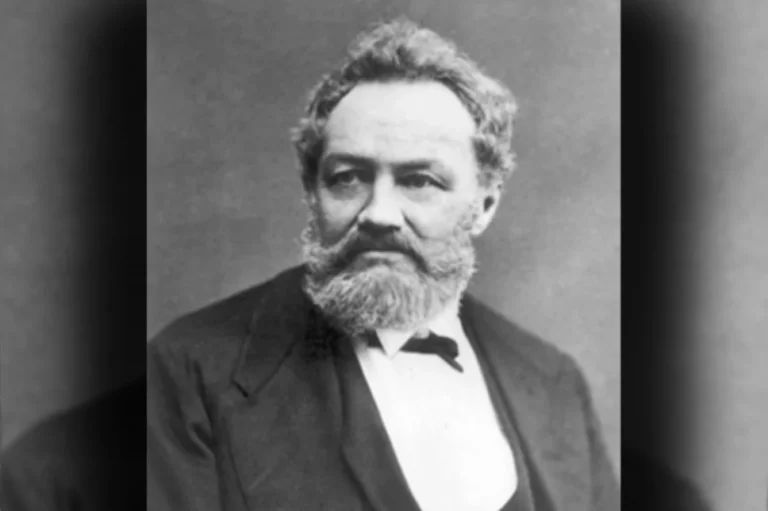«Хроники русской революции» — прорыв или провал? О чём сериал Кончаловского

Масштабный проект Андрея Кончаловского, сериал «Хроники русской революции», который называют ещё и кинороманом, появился на стриминговых платформах 10 октября. Не весь — пока только 4 первых серии из 16. Но кое-что о нём можно и даже нужно сказать уже сейчас.
Именно сейчас, когда появились первые отзывы и критические статьи. Дело в том, что они-то как раз и свидетельствуют о каком-то поистине катастрофическом перекосе нашего массового сознания. Серьёзные федеральные издания публикуют статьи, авторы которых, рассуждая о достоинствах и недостатках картины, почти всегда оперируют понятиями «кино о распаде Российской империи». Один новостной портал и вовсе вынес это в заголовок: «Кончаловский снял сериал про развал Российской империи. Что из этого вышло?»
Вопрос, поставленный автором, на первый взгляд выглядит вполне резонно. Но если подумать как следует, он нелеп. Потому что с таким подходом у Кончаловского не могло получиться ничего. О чём, кстати, критики и говорят. Дескать, размах на рубль, а удар на копейку. Почему так получилось, пытаются объяснить по-разному, но вот что говорит один из самых авторитетных экспертов, кинокритик и киновед Михаил Трофименков: «Видать, было в «России, которую мы потеряли», что-то такое, что никак не даёт мастерам кино снять её гибель как трагедию, а не как бурлеск».

А теперь — внимание. Я никого не хочу обидеть или оскорбить. Но все, кто успел высказаться по поводу увиденных серий самого амбициозного проекта Андрея Кончаловского, находятся в ловушке.
Давайте просто вспомним, как называется кино, о котором вы написали? «Хроники гибели Российской империи»? Или, может быть, «Хроники развала Российской империи»? Нет. Оно называется «Хроники русской революции».

Ставить между понятиями «революция» и «гибель» знак равенства — значит, обречь себя на блуждание в потёмках. К сожалению, в этих потёмках многие пребывают с конца восьмидесятых годов прошлого века, когда в угаре перестройки считалось хорошим тоном заявлять, что революция — это и есть гибель. Во всяком случае гибель всего хорошего, что было, начиная с гибели людей. В этом запале дошли до того, что стали плевать в себя. И это не фигура речи. Вспомните, сколько раз, иногда даже с высоких трибун и в печати, появлялась формула: «Революция истребила цвет нации».
Истребила цвет нации? Допустим. Но есть важный нюанс. Тот, кто произносит эти слова, говорит буквально следующее: «Я сам и мои предки — сволочи, подлецы и отребье». Почему? Да потому, что если уж революция и впрямь истребила цвет нации, то кто тогда выжил? Правильно — сволочи, подлецы и отребье.

Ах, кто-то не согласен? Кто-то оскорблён? Ну так начните с себя. Перестаньте ставить между понятиями «революция» и «гибель» знак равенства. Потому что революция — это, прежде всего, перерождение. То есть рождение заново. И здесь Кончаловский, во всяком случае с формальной точки зрения, придерживается исторической правды. Десять лет назад, летом 2015 года, состоялся круглый стол на тему «100 лет Великой российской революции: осмысление во имя консолидации» — так загодя начинали готовиться к столетнему юбилею революции, который отмечали в 2017 году. И на этом совещании прислушались, наконец, к мнению историков, которое высказал академик Александр Чубарьян: «Революция — это не одномоментный взрыв, а процесс, который длился с 1917 по 1922 год». Тогда же призвали не демонизировать и не превозносить ни одну из сторон этого процесса.
Кончаловский в своём проекте не просто транслирует эту мысль, он её развивает, раздвигая хронологические рамки. События его «Хроник» охватывают двадцать лет — с 1905 по 1924 год. То есть нам должны показать предпосылки процесса, собственно, революцию и то, к чему она привела. А привела она, помимо всего прочего, к созданию в 1922 году СССР — вряд ли Кончаловский обойдёт стороной этот факт.

Стало быть, тут всё хорошо и правильно. С установкой на беспристрастное отношение к сторонам процесса всё хуже — такое впечатление, что режиссёр решил раздать всем сёстрам по серьгам. Революционеры у него поданы в традициях перестройки. Это смутьяны, «бесы» Достоевского, которые только и знают, что «расшатывать лодку». С другой стороны, элиты Российской империи в его «Хрониках» ничуть не лучше — сплошь коррумпированные чинуши и иноагенты, которые что? Правильно — объективно тоже «расшатывают лодку», только на свой манер.

Для первых серий, то есть для предпосылок к революции, такой взгляд, пусть и с натяжками, но имеет право на существование. В конце концов, до 1917 года революционеры, если и занимались каким-то строительством, то исключительно партийным. А на элитах и впрямь негде было клейма ставить.
И вот тут всё зависит от арки главного героя, вымышленного полицейского подполковника Михаила Прохорова, которого сыграл Юра Борисов. По большому счёту, мы на всё смотрим его глазами. Именно он видит, что коррупция элит зашла слишком далеко и угрожает безопасности страны. Именно он видит, что революцию не делают в белых перчатках — бомбы и револьверы с той стороны пускают в ход очень часто.

Что он увидит дальше? Хотелось бы верить, что увидит Прохоров, например, начало борьбы с безграмотностью. Или установление восьмичасового рабочего дня и запрет детского труда. Или гарантированный оплачиваемый отпуск для всех категорий работников. Или отпуск для женщин по беременности и родам, который до сих пор называют декретным лишь потому, что он введён Декретом советской власти. Или бесплатные здравоохранение и образование…
Эти «или» можно перечислять бесконечно. Но если главный герой фильма «Хроники русской революции» их увидит, осознает и поймёт, наконец, что между понятиями «революция» и «гибель» нельзя ставить знак равенства, то сериал станет впечатляющим прорывом. А если нет — плевком в себя.
Источник: https://aif.ru/society/history/hroniki_russkoy_revolyucii_proryv_ili_proval